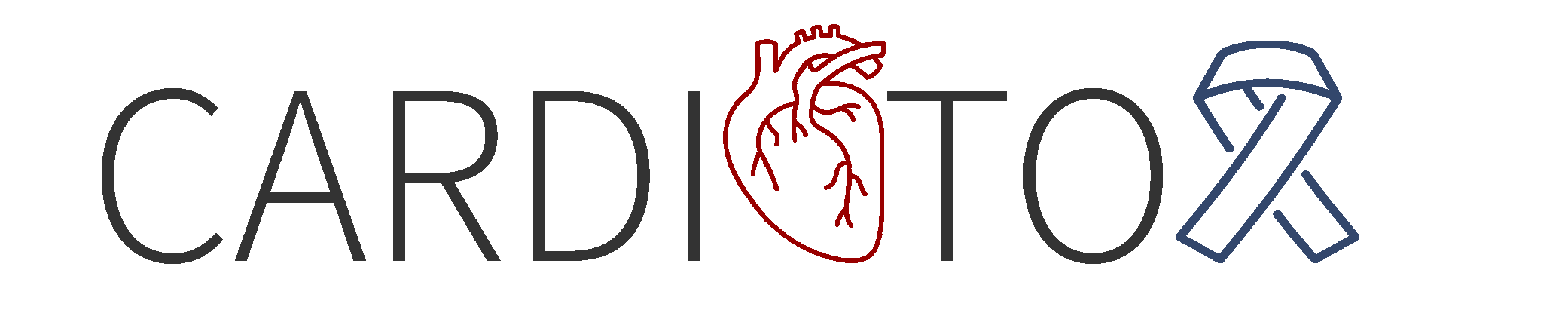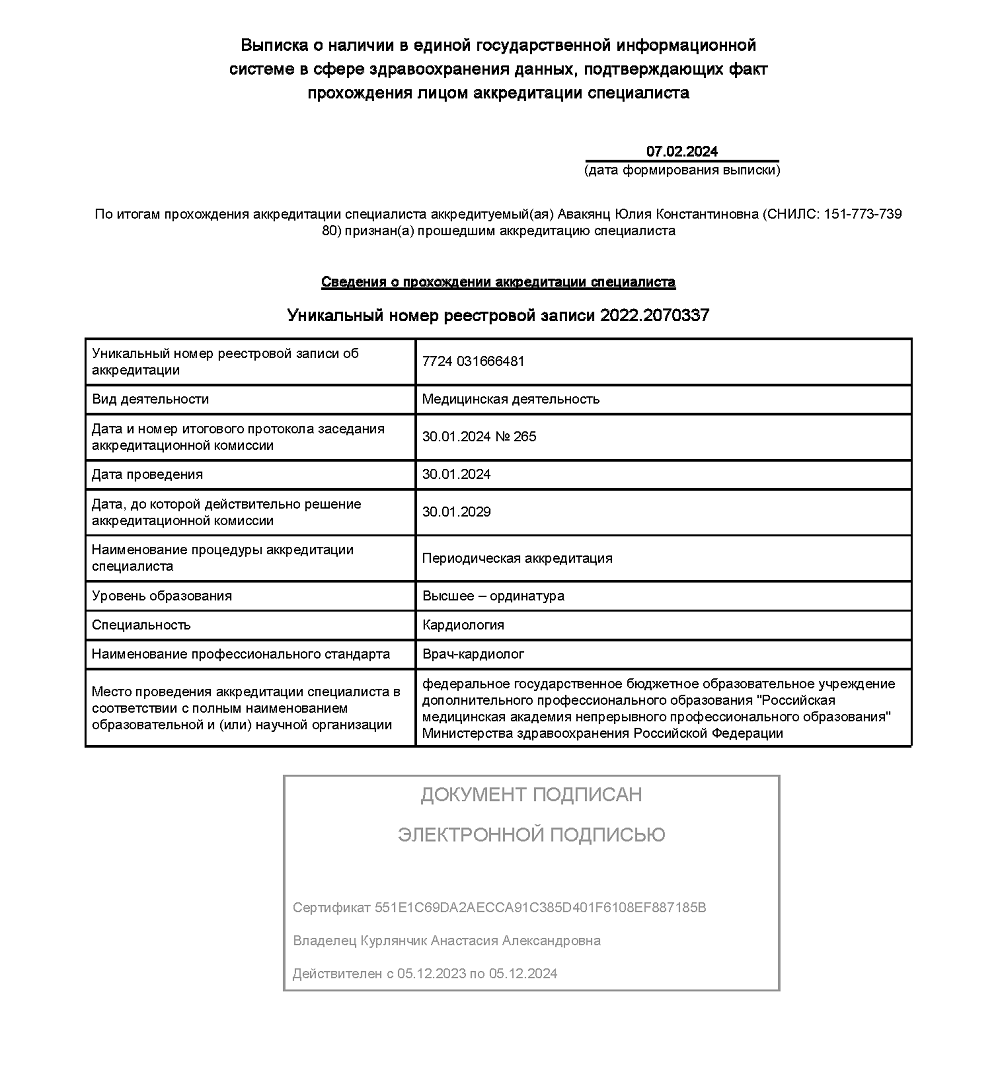Сегодня Всемирный День Кардиолога и я поздравляют всех коллег-кардиологов с нашим профессиональным праздником!
И немного расскажу как и когда зародилась такая суб-специальность, как кардио-онкология.
Эра кардио-онкологии началась с появлением и расширением применения антрациклинов в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Воздействие антрациклинов приводило к сердечной недостаточности, которая была дозозависимой, и при назначении в достаточно высоких дозах приводила к тяжелой сердечной недостаточности и даже смерти. Выявление кардиотоксичности было основано на анализе биопсии миокарда, поскольку современные методы визуализации на тот момент были недоступны. На протяжении 1980-х годов для оценки токсичности проводились биопсии сердца, которые классифицировались в соответствии с разработанными шкалами токсичности, что позволяло индивидуализировать дозировку.
По мере совершенствования неинвазивных методов диагностики — фракция выброса сердца стала параметром выбора для наблюдения за сердцем, и широко использовались как ультразвуковое исследование сердца, так и ядерная визуализация в форме многоканального сканирования (MUGA). Однако было признано, что в то время как биопсия сердца показала и четко количественно определяла повреждение миоцита (клетки миокарда), фракция выброса могла обнаружить последствия повреждения только тогда, когда компенсаторные резервы были уже сильно снижены. К началу 1980-х годов стало очевидно, что снижение фракции выброса было уже поздним следствием антрациклинового повреждения и явно не было оптимальным параметром для руководства антрациклиновой терапией. В это же время накопился достаточный интерес к оценке риска онкологических больных, и первое упоминание о кардио-онкологе («онкологическом кардиологе») появилось в крупном журнале (Journal of Clinical Oncology, 1984).
По мере того, как арсенал онкологов расширялся, становились известными и другие побочные эффекты. Коронарный спазм, связанный с 5-фторурацилом, транзиторная брадикардия, вызванная таксанами, геморрагический миокрадит на высоких дозах циклофосфамида. Большинство осложнений хотя и было известно, но встречалось редко, а роль кардиолога в основном заключалась в предоставлении поддерживающей терапии. Подход к другим методам, включая облучение, в то время был в значительной степени реактивным: если у пациента возникало какое-то сердечно-сосудистое событие или гипертонический криз, то для оптимизации лечения направляли к кардиологу.
С разработкой моноклонального антитела трастузумаба на первый план вышли опасения относительно кардиологических последствий этого препарата, а позднее и многих других новых препаратов. Были высказаны опасения, особенно в связи с предполагаемой ролью трастузумаба в адъювантной терапии рака молочной железы. В 2005 году было установлено, что кардиотоксичность трастузумаба принципиально отличается от таковой у антрациклинов. Трастузумаб не показал ультраструктурных изменений, характерных для антрациклинов, а снижение сердечной сократимости было обратимым. Это позволило продолжить некоторые из основных клинических испытаний, несмотря на признание снижения фракции выброса. Результаты этих испытаний в конечном итоге привели к одобрению трастузумаба в качестве адъювантной терапии, что стало огромным прорывом в лечении HER2-положительного рака молочной железы.
Однако, вопросы, касающиеся кардиотоксичности трастузумаба, а позднее и других моноклональных антител и ингибиторов тирозинкиназы, продолжали вызывать обеспокоенность. Опасения были достаточно велики, что привело к росту количества кардиологов, обеспокоенных проблемами кардиотоксичности. Кроме того, наконец были признаны как ранние, так и поздние последствия облучения, и, хотя были разработаны кардиозащитные стратегии для защиты сердца от воздействия радиации, долгосрочное позднее проявление радиационного поражения длительное время оставалось (и остается) важным фактором при наблюдении за пациентами, ранее подвергшимися воздействию радиотерапии.
Новая эра с новыми проблемами повреждения сердца наступила тогда, когда была введена жизненно важная и инновационная группа противоопухолевых препаратов: ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Эти агенты были связаны с редкой (частота возникновения менее 1%), но тяжелой формой воспаления миокарда, которая продолжает привлекать значительное внимание.
Постоянно расширяющиеся стратегии противоопухолевого лечения в итоге привели к необходимости создания отдельной суб-специальности, которая занималась бы определением рисков и лечением осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, вызванных противоопухолевым лечением. Так, в 2009 впервые было основано Международное Профессиональное Сообщество Кардио-Онкологии (IC-OS), а в 2016 году Европейским Обществом Кардиологов (ESC) впервые был выпущен Меморандум о лечении рака и сердечно-сосудистой токсичности, в котором было представлено экспертное согласие по лечению сердечно-сосудистых осложнений, связанных с терапией онкологии. Полноценные же рекомендации по лечении сердечно-сосудистых осложнений противоопухолевого лечения были представлены ESC только в 2022 году.
По мере продвижения вперед, выживаемость и качество жизни онкологических больных продолжают улучшаться, периоды ремиссии расширяются, а полное излечение становится все более распространенным. Поэтому крайне важно, чтобы все больше кардиологов понимали и учились «смягчать» сердечно-сосудистые побочные эффекты противоопухолевой терапии, оптимизировать стратегии лечения и улучшать общие результаты и качество жизни людей с онкологией.